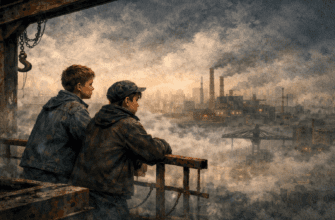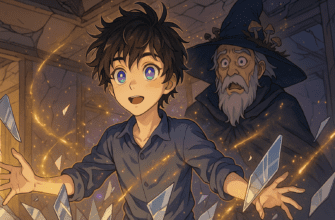Проснулся рано — это уже традиция: встать до воспитателя и ребят. Убрать постель, принять душ и собраться в школу или на прогулку.
Стоя под душем в полшестого утра, я думал: почему я постоянно просыпаюсь так рано?
Шрам на ноге как-то заныл, и появилось ощущение, которого я обычно стыжусь, — будто моё тело разговаривает со мной.
Но это был хороший способ ещё лет с семи: встал рано, как можно тише собрался и убежал. Вечером, конечно, влетит — но это один раз, а не целый день.
И сегодня это работает так же: никто не видит шрамов, никто не сочувствует, не бросает слов «бедненький» и не начинает играть «заботливого взрослого».
Пар застилал глаза, и я стоял, упёршись руками в белый кафель, вдыхая горячую действительность нового дня.
Я устал от заботливых взрослых.
Ещё больше устал от их порывов быть заботливыми.
Нет, серьёзно — это очень обидно. Смотришь на взрослого: вроде хороший, в глазах нет даже намёка на злобу, и ты невольно располагаешься к нему.
Только вот… ты ему не нужен совсем. Его «порыв» — это не про тебя, это про желание успокоить самого себя. Поставить галочку: «я — молодец».
Поэтому нет никакой веры.
Я привык жить так: сначала проверить — опасный ли он. Если нет, то лучше убрать взгляд и не читать его.
Опаснее всего, когда такой взрослый настойчив. И ты вынужден видеть его часто. Тогда всё равно прочтёшь и увидишь эту его доброту. И снова обманешься, потому что он уйдёт и забудет меня, а ты останешься стоять и делать вид.
Делать вид, что ты взрослый: улыбаешься, глазами отдаёшь оттенки радости и никакого вреда.
Ну… подумаешь… торнадо из разрушенных надежд-клинков. В природе же они проходят — значит и у меня пройдут.
Мне сказали, что из-за этого я вырасту одиноким и не смогу никому доверять. Но это не так. У меня есть воспитатель и ещё пара взрослых, кому я доверяю.
А зачем мне так сказали?
«Брать не хотели».
«Забыл?»
Да… в голове странное воспоминание. Я так и не понял, чем их обидел: пообещали вернуться, сходить в какой-то парк, посмотреть на танки. А потом просто передали: «прости, но мы не вернёмся». Через полгода передали. Но… передали.
Сегодня я решил прогулять уроки. Никогда в жизни так не поступал, но хочется попробовать.
Ребята говорят, что от этого ушки горят и всё такое — типа волнуешься, словно на гору лезешь.
Вышел из душа и, высушив феном голову, лелеял надежду, что это никого не разбудит. План был простым: высушиться, аккуратно пробраться в комнату и одеться.
Ох, как же мне не терпелось надеть новые вещи. Вчера я смог отстоять себе толстовку ядовито-фиолетового цвета. Почему-то её хотели взять сразу трое, но я был самый маленький и, пока они спорили, ушёл с ней под их хохот.
Когда высушился, посмотрел в зеркало: чёрные волосы, зелёные глаза и немного курносый нос.
Нацепил трусы с майкой и пошёл в свою комнату. Рассвет рассеивался по коридору из кухни. А ведь он у нас длинный — комната воспитателя и пять для ребят. Моя — крайняя к выходу. В такие моменты, как сейчас, мне это нравилось, а по выходным хоть пахучих ёжиков кидай во всех: постоянно хлопают дверями.
У нас в комнатах живут по двое, по возрасту. Я самый маленький, но только ростом — по годам есть и на год младше.
Быстрым шагом, на цыпочках, подошёл к своей двери. Гладкая чёрная дверь, и уже у неё пахло мандаринами.
Одевшись, я кинул рукой портрету Наруто и вспомнил, как в самом начале он бегал с краской по деревне. Мне казалось, что я как он — сейчас тоже пойду шкодить: пусть и не красить, но прогуливать.
Схватил рюкзак и вышел как ниндзя — даже сам себя не услышал.
Зачем прогуливать так, чтобы потом забыть? Я хотел сделать самую настоящую глупость. Просто ещё не понимал — какую и как.
Утреннее серебро с неба лениво освещало улицу. Пар от машин поднимался вверх, а серые люди ходили, как пингвины, друг за другом в общем потоке.
Денег у меня не было, поэтому я сел в трамвай с надеждой проехать хоть чуть-чуть ближе к неизвестности. Было весело, как люди сжимали друг друга, прижимаясь, — как мармеладки в тесной упаковке.
Вынесли меня под мой собственный хохот: я вообще не мог даже двинуться, просто люди решили выйти. В любом случае я оказался в совершенно незнакомом месте и решил идти в обратную сторону от толпы.
Красивые белые лампочки, красные игрушки. Причём не только шарики, а ещё и человечки в чёрных шляпках и штанишках. Я восхищённо изучал ёлочку и слушал, как колокольчики у дверей магазина переплетались с шорканьем ботинок прохожих по снегу.
Справа стояла инсталляция из четырёх цифр приходящего года. Там красивая девочка обнимала своего мужчину, согнув одну ногу, словно в прыжке, и прижимаясь к его плечу — позировала на телефон в его руках.
Двое ребят, держась за руку со взрослым, шли куда-то, когда мальчик закричал, что хочет именно машинку на Новый год.
Я задумался: а просил ли когда-нибудь чего-нибудь сам? Мелкая дрожь пробежала по телу, и я отвлёкся на витрины магазинов с иностранными названиями. Они светились апельсиновым светом, а вещи стояли, как на подиуме.
Но меня привлёк странный магазинчик на углу. Там пахло магией издалека: нежный алый ласкал бездонность чёрного, а тонкие белые линии создавали волшебство вида.
Я не знал, как пройти к нему: пешеходных переходов не было видно, а машины будто летали. Оглянувшись, заметил бежевое здание с белыми наличниками — у него был подземный переход. Было обидно: идти метров сто, а уже хотелось подбежать и разглядеть витрину.
Я снова пристроился за пингвинами, словно такой же, как они: тоже имею право куда-то торопиться.
Но сразу пожалел. Почему-то, как назло, рядом оказались дети с родителями. Слова «папа», «мама» не злили и вроде даже не ранили… но я всё равно сжался, обняв себя двумя руками, и опустил нос в воротник. Хотелось побыстрее пройти, но людей было слишком много.
Я чувствовал, что мне не хватает воздуха, словно внутри висела большая гиря и не давала вдохнуть. Но внезапный гудок машины, а в переходе — писк лампы под потолком, и всё прошло.
Двигаясь по переходу, я увидел мужчину — очень грязного, в чёрной, местами рваной одежде. Рядом спал мальчик, старше меня. И мне стало неловко: даже у него есть папа. Пусть и такой.
Меня, остановившегося, толкнули вперёд.
«У пингвинов не принято останавливаться».
И я разлился звонким хихиканьем в воротник, догоняя тех, кто был впереди уже в нескольких метрах.
Интересно, а Наруто тоже чувствовал так же, как я?
Страх и желание. Такое сильное, непонятное желание исследовать и узнавать всё новое и новое.
«Ох, и влетит же мне за прогул».
«Ничего».
«Дядь Миша не ударит».
Я поднимался по скользким ступенькам и в какой-то момент испугался — поскользнувшись, понял, что падаю вниз. Но кто-то подхватил меня и грубым, безразличным голосом сказал:
— Куда летишь? Смотри, куда идёшь!
«Странно».
«Почему мне приятно?»
Я пожал плечами и поднялся к этому удивительно красивому зданию: на окнах — белые наличники, на них нарисованы всякие зверьки, словно из учебника по истории, где-то на страницах про Францию.
Я прижался к зданию, чтобы меня не унесло этим потоком шумного пингвинячьего великого шествия.
Так я и шёл вдоль бежевого здания, а впереди уже начиналось другое — тёмное, словно утренний свет про него забыл. Матово-коричневое, глухое.
Я проходил дальше и старался не смотреть на людей, но вдруг раздался какой-то странный писк — и я уже всматривался в толпу. В этот момент поскользнулся и упал.
Лёгкий звон в ушах, и жаром обдало всё тело. Я замер. Пытался понять, что со мной, и медленно плюхнулся на попу, прижавшись к зданию, словно к большому защитнику.
Странное дело — хотелось заплакать. Но, кажется, я знал: смысла нет.
Поэтому, потирая голову через шапку, я смотрел, как люди почти бежали мимо.
Звуки сигналов машин сильно били в голову, но я уже знал — всё хорошо. Можно вставать.
В голове живёт демон. Я знаю это точно: он просто берёт и включает старые, больные картинки — словно в кинотеатре.
Так и сейчас. Всё как в тумане, но при этом чётко.
Вот папа стоит и ругается с кем-то по телефону, оттолкнув меня рукой. Я упал, сижу — больно. Но знаю: нужно самому встать.
Я поднимаюсь — и снова падаю от злого крика в трубку. Снова встаю. И вот здесь демон просто выключает «кино».
По щеке проходит непривычный холод. Я касаюсь рукой и понимаю — мокро. Злюсь и резко встаю. В глазах сразу рассыпаются какие-то звёздочки, темнеет, но я хватаюсь за жёлтую трубу на здании.
Прихожу в себя. Хочу уйти — туда, к волшебному месту. Поэтому, кажется, даже толкаю кого-то, проходя дальше.
Будто несясь вперёд, как дятел Вуди, я вдруг понял правила этой толпы.
Нужно притворяться телом — показывать, что мне туда. И люди сразу обходят, расступаются сами, давая пространство.
Внутри стало волнительно от этого открытия. Я боялся, что забуду, как это делается, что не смогу повторить.
А ещё было волнение от ожидания: уже виден угол здания, я почти дошёл.
Звуки словно снова пытались меня уронить — кто-то плакал, кто-то сказал: «я тебя ненавижу», человек позади грязно говорил в телефон. Но я знал одно: мне нужно прямо. Не отвлекаясь.
Дойдя до угла, я сразу свернул и почему-то захотел посмотреть на того, кто шёл сзади.
Бежевое ровное пальто, шоколадные пуговицы и шляпа. Он выглядел как настоящий джентльмен из телевизора — и при этом настолько неестественно выделялся из толпы, что казался чужим.
Мне понадобилось несколько секунд, прежде чем желание рассмотреть витрину и вывески снова завладело головой.
Белые перья.
Я просто уставился в них. Это было красиво: красный бархатный фон, разложенные чёрные вещи — и эти белые перья. Их немного, но именно они приковывали взгляд.
— Знаешь, а ведь раньше эта штука была почти у всех дома, — раздался голос рядом.
По отражению в стекле я понял, что это тот самый дядя в пальто.
«Он меня побьёт?»
Мне показалось, что я дрожу, поэтому я прижался плотнее к стеклу — так, что на нём остался пар от дыхания.
— Умеешь им пользоваться? — его голос был тёплым. И, вроде бы, без угрозы.
Я почувствовал, как на плечо легла рука.
Словно удар током — я дёрнулся в сторону и со страху влетел в дверь этого заведения.
Меня пронзило светом — его было слишком много. И ещё масштабом.
Я почувствовал, как кто-то схватил меня за плечо, но реальность словно подгружалась. Меня заколдовал пол: отражения на нём били в глаза, путали, тянули взгляд.
Я повернул голову и увидел дядю в форме.
— Ты ещё кто такой? — спросил он немного брезгливо.
— Тёма, — честно ответил я.
— Чего тут делаешь? — не отставал он.
Лёгкий ветерок настойчиво ударил в спину, и я увидел дядю в пальто.
Он был взрослым: немного морщинистое лицо, серовато-голубые глаза и сладкая улыбка — такая, от которой становится не сразу понятно, хорошо это или опасно.
— Миш, отпусти пацана, — сказал он.
Меня тут же отпустили, и я плюхнулся на попу, даже не понимая почему.
— Держи лапу! — он снял кожаную чёрную перчатку и протянул мне руку.
Я смотрел на неё и думал, что нужно притвориться нормальным, не выделяться. Поэтому быстро взялся за его ладонь. Он потянул — и вот я уже стою.
— Сдай дяде Мише одежду, — он снял вторую перчатку и распахнул пальто. — Не переживай, можешь пройти со мной… за сцену.
Я смотрел на него: немного прилизанные тёмно-русые волосы с серебряными прядями.
Сам расстёгивал куртку и чувствовал непонятное волнение и трепет. Мне очень хотелось пройтись по этому залу — просто идти и смотреть.
Он забрал у меня куртку, засунул шапку в рукав и отдал охраннику.
А я не мог оторвать взгляд от картин в золотых рамах.
На одной стоял рыцарь, преклонив колено перед царём — или королём. Рядом с троном тянулись белые столбы, а золото чаши в его руках выглядело настолько настоящим, что хотелось прикоснуться.
Если бы я был выше — так бы и сделал.
— Ты из какого детдома? — голос раздался сзади, но уже совсем не пугал.
— Центрального, — ответил я автоматически.
И тут испугался.
Зачем я это сказал? Как он узнал?
Я повернулся к нему — наверное, всё во мне кричало от удивления.
— Чего ты? — он улыбался, и даже его рука, теребившая мои волосы, не пугала. — Не переживай. Здесь можешь и покушать, и спектакль посмотреть.
Он взял меня за руку. И был настолько правильным, что внутри неожиданно прорвалось доверие — и именно это меня испугало.
— А это что вообще? — я обвёл рукой всё вокруг.
— Театр, — он наклонил голову. — Чего, не прочёл, что ли?
Он засмеялся — немного обидно. Но я правда не прочитал вывеску.
Я шёл с ним, и было одновременно неприятно и очень приятно.
Идти рядом с красивым взрослым — на нас смотрели, как на папу с сыном. Я подметал пол глазами и старался дышать. Было стыдно, будто я всех вокруг обманываю.
— Хочешь за сцену? — он остановился и наклонился ко мне. — Ты вообще в театре-то был?
Я покачал головой, не поднимая её. Было стыдно — ведь я никогда не был.
— Тогда посадим тебя в зале, хочешь? — он поднял мою голову за подбородок. — Не переживай, тебя тут не обидят.
Я смотрел в его глаза и читал их, а он знал это. Точно знал — взрослые такое чувствуют.
Там было слишком много доброты, немного волнения и сопереживания. Я выдохнул и кивнул.
— Сегодня Чехов, — он показал на афишу. — «Вишнёвый сад». Читал уже?
— Не-а, не читал. А про что это? — мне вдруг стало дико интересно.
— Ну… — он усмехнулся. — Малыш, такое сразу не расскажешь. Сам увидишь. Пойдём.
И мы пошли. Прямо к большим деревянным лакированным дверям.
За ними был тёмный зал, но свет горел так ярко, что возникало странное ощущение: вроде темно — а всё равно светло.
Он провёл меня почти к самой площадке — сцене, видимо, — подумал я.
— Садись вот сюда, — он надавил на сиденье. — До начала ещё минут десять, потерпишь?
— Ага! — я плюхнулся туда, куда он показал.
Дядя ушёл, а я остался сидеть в этом бархатном, непривычно мягком кресле — казалось, сейчас в нём утону.
Я попытался осмотреться. Сердце колотилось где-то в горле. Всё было таким красивым — почти ненастоящим. Торжественным.
Золотые завитки на балконах сверху, тяжёлые бордовые шторы — словно здесь застыли волны. А звёздочки-огоньки наверху будто забыли, что им положено быть на небе.
«Как в сказке».
Я трогал подлокотник — гладкий, прохладный, с мелкой резьбой.
«Ну как мелкой…»
«Блин».
Шуршащий шум постепенно стих. Остались лёгкие перешёптывания и редкие стуки каблуков. Мне всё казалось, что кто-то вот-вот подойдёт и выгонит меня.
Но вдруг на сцене зажёгся свет.
Голова сама втянулась в плечи.
Всё было настолько настоящим, что становилось страшно:
а вдруг ненастоящий здесь — я?
Словно заколдованный, я даже пропустил первые слова на сцене. Смотрел на костюмы и не мог понять — что происходит?
Вглядывался в лица: живые, но… другие. Как будто они знали что-то, чего я ещё не знаю.
Сначала до меня донеслось что-то про сад, какие-то долги, про время, которое уходит. И вдруг меня переклинило — и я начал смотреть по-настоящему.
Прекрасная женщина. Ужасно красивая — аж до дрожи в плечах.
Светлая, невесомая, такая нежная, будто вот-вот растает. Но я знаю это чувство, когда притворяешься, что всё хорошо, а внутри — пустота. Такая у неё была улыбка.
Я сжимал подлокотники, а она смеялась дрожащим голосом.
Хотелось закричать: «Не надо. Не притворяйся».
Кажется, я сдавил этот крик в очень тихий писк.
Я смотрел на этого их Лопахина.
Такой же, как те, кто приходит к нам с подарками на Новый год. Вроде сильный, уверенный — а внутри прячется растерянность.
«Он сам не понимает, зачем рубит этот сад».
И тут до меня дошло: он просто тоже боится. Делает вид, что всё держит под контролем.
Я замер. Они все говорили одновременно, но… не слышали друг друга.
«Ага».
«Знаю».
«Так же пытаешься им что-то сказать».
«А тебя не замечают».
Как когда дядь Миша спрашивает: «У тебя всё хорошо?»
А ты через ураган внутри кидаешь короткое: «Да».
Я заплакал, словно кто-то ударил меня по лицу.
Пустой дом.
Старенький Фирс. Забыт. Всеми забыт.
Я пытался сглотнуть — в горле застрял ёжик.
«Его просто оставили».
Это было несправедливо. Слёзы лились сами — так больно, что хотелось вскрикнуть.
И этот звук… словно лопнула пружина. Будто что-то навсегда оборвалось.
Занавес опустился, а я не мог пошевелиться.
В зале зажёгся свет, люди вставали, аплодировали, а я всё пытался собрать свои мысли в кучу.
«Они все — как я».
Каждый из них где-то потерялся. Каждый боится что-то отпустить.
В голове словно крот пытался выбраться наружу — мысль настойчиво скреблась.
«А что, если и я так же?»
Если я тоже держусь за что-то мёртвое, боясь отпустить?
Если я сам — как этот сад, который уже нельзя спасти, но всё равно жалко рубить?
Грусть билась, словно хрусталь, сорвавшийся с потолка и упавший на сухую землю.
Так больно. Слёзы лились, а я никак не мог собраться.
— Тёма, — знакомый, любимый, родной голос ударил прямо в голову. Я даже не сразу поверил.
— Убегать в субботу утром? — дядя Миша садился рядом со мной.
Он протянул руку и, вытирая мне слёзы, был так нужен, что я сорвался и полез к нему через подлокотник — хоть и больно.
— Ну вот… — сказал он куда-то.
— Миш, а я сразу понял, — голос дядьки в пальто раздался рядом, — что это твой. Такой робкий.
Дядя Миша укачивал меня, как маленького. Было чуть стыдно, и я вытер лицо о его рубашку, потом вернулся на своё место.
— Ты нормальный? — он улыбался, показывая руками на мокрые пятна.
— Ну что, малой, понравилось? — сказал Фирс. Но уже без бороды. Он стоял прямо передо мной.
Мне стало его так жалко, что я просто встал и обнял его, как смог — сильно, цепко. Во мне смешались благодарность, жалость и какой-то тихий трепет.
«Суббота».
«Я прогулял в выходной?»
«Боже, какой же я придурок».
«Прогулял».
Я улыбнулся и повернулся к дяде Мише, уже зная, что ругаться он не станет.