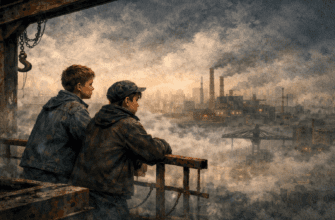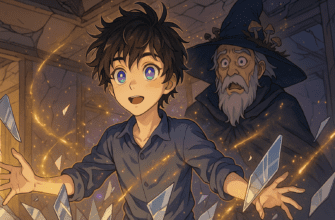Этот рассказ — воспоминание автора.
Он не претендует на объективность и не стремится к завершённости.
«Маска Артёма: Рассказ первый» — часть цикла, в котором важен контекст.
Пожалуйста, прочитайте текст о проекте перед началом.
Это тяжёлый и честный рассказ. Если вы не готовы к такому опыту — лучше отложить чтение.
Урок русского языка.
Мне мама подарила перьевую ручку, и самое смешное — в третьем классе я был единственным, кто умел писать не просто перьевой ручкой, а писать так, что учителя ставили в пример.
Меня ужасно воодушевляло, когда пожилая Нина Николаевна говорила всему классу:
— Ребятки, вот почему я хвалю Артёмушку, вы посмотрите.
А потом добавляла, уже мягче:
— Это уважение к учителю. Посмотрите, как приятно читать.
Я запомнил это именно так: учительница стоит со светло-зелёной тетрадью, смотрит в неё и с очень добрым лицом слегка покачивает головой, придерживая руку у щеки.
Мне она очень нравилась.
Наверное, за бесконечную доброту.
Школьные перемены я не любил. Никогда.
Слишком шумно. Слишком много движений. Хотелось спрятаться.
Поэтому я прятался в себя: писал какие-то глупые стишки или читал книги. Мне очень нравились маленькие рассказы Ивана Алексеевича Бунина или Антона Павловича Чехова.
Но Бунин — сильнее.
Просто потому, что он писал так же, как я чувствовал: свет, запах, ощущение на коже и звуки. Это позволяло быстрее погрузиться в мир, который уносил меня хотя бы частично из этого хаоса.
Я забирался на подоконник и читал.
Это была большая перемена, но почему-то правила гласили, что выходить из школы можно только старшеклассникам. Будто мы не люди и не хотим погулять.
Хотя, если быть честным, я не уверен, что я бы возвращался.
Я не уверен, что именно меня так напугало и почему я внезапно дёрнул ногой и начал судорожно смотреть по сторонам. Настолько, что не заметил, как уронил кем-то поставленный на подоконник цветок.
Грохот стоял отменный.
Без понятия, как я не убился, когда упал на керамические осколки горшка.
Учительница старшеклассников по истории — невыносимо ужасного склада характера и внутреннего мира — ехидно подошла ко мне и, буквально поднимая меня за шкирку, в позе самовлюблённого Цезаря заявила:
— Ну вот и всё. Теперь не выкрутишься.
Я её сильно не любил. Она зачем-то постоянно лезла в дела нашей семьи. Кто-то назначил её кем-то там по работе с неблагополучными семьями. Я не понимал, что это значит, но папу она бесила неимоверно.
Женщина резко натянула воротник, хотя я уже стоял.
Я ухватился за него.
Было странное ощущение удушья.
По бокам шеи сдавливало так сильно, что в глазах мутнело.
Я с хрипом бил её по рукам, пытаясь хоть как-то ослабить хватку.
— Ах ты ещё и учителей бьёшь? — сказала Ирина Васильевна, отпуская меня и держась за свою руку.
— Вы меня вообще-то душили, — как-то обиженно начал оправдываться я, сам не понимая зачем. Она была невероятно предвзятой и никогда не поверила бы моим словам — даже если бы я сказал, что небо голубое.
— На этот раз я вызову твоего отца, — ехидно произнесла она, словно предвкушая продолжение любимого сериала, делая вид, будто тащит меня в учительскую силой.
Но я знал, как больно она таскает, поэтому шёл быстро, не отставая.
Эта комната была ужасно тесной — и не потому, что маленькая. Напротив, метров ближе к двадцати. Просто всё было заставлено какими-то шкафами и огроменным столом. Обойти его можно было только если со стороны прохода никто не сидит.
Учительница ударила в районе шеи — там, где держала за воротник. Мне показалось, что она представила, как кидает меня, словно плюшевого.
Я просто ухватился рукой за шею и уставился на её лицо — довольное и чужое.
— Сиди здесь, — Ирина Васильевна выдвинула стул у стола и указала мне на него.
Она подошла к двустворчатому желтовато-коричневому шкафу у окна. Её движения почему-то напоминали мне Амбридж — ту самую, из книг. Только эту я боялся сильнее.
Повернув маленький ключ в замочной скважине с жестяным скрипом, она достала свой заветный журнал.
Мне было смешно.
Но многие боялись оказаться в этом журнале.
Во мне боролось странное ощущение — будто происходящее напоминает мне что-то из сказок или мифов.
Точно.
Улыбка как у Кащея, когда он пересчитывает пленных.
А этот журнал — его сокровищница.
Но я не дам ей чахнуть над этим златом.
Рука уже сжала смартфон.
И я вдруг понял: готов сделать что-то совсем неправильное.
Меня уже едва ли могло что-то напугать.
Отца она всё равно вызовет.
Ирина Васильевна подошла к дальнему маленькому столику в углу и с грохотом уронила журнал на столешницу. Достала ручку и с искривлённой улыбкой зачем-то показала её мне.
Потом отодвинула старый тёмный стул, грузно упала на него и открыла синий журнал.
Я смотрел на пол.
Рисунок на нём имитировал деревянную плитку, но линии почему-то расплывались, были нечёткими. Или я плохо видел — не знаю. В любом случае взгляд зацепился за тёмные полосы и бегал вдоль них, как будто это было важно.
— Итак, значит, — начала женщина, — матери нет, а отец, как я посмотрю, полнейший маргинал.
Внутри стало обидно. Даже очень.
Не за то, что мать на самом деле есть.
А за то, как она сказала про папу.
Я привык, что про мать никто ничего не знает. Она уже лет пять появляется только тогда, когда ей звонит Вика — моя двоюродная тётя, которая работает в детской больнице.
Я вдруг представил, что будет, если я расскажу папе, как эта женщина его называет.
И тут же оттолкнул эту мысль.
Не знаю почему.
Может, потому что я не знал, что значит слово «маргинал».
А может, потому что он мог сорваться на мне.
В голове стало как-то по-другому.
Это была не злость и не страх. Нет.
Скорее чувство, когда понимаешь: плохого не избежать. Оно всё равно случится.
И теперь ты можешь — а скорее, даже должен — сделать что-то, от чего будет плохо не только тебе, но и ей.
Я больно прикусил нижнюю губу, глядя на эту сгорбившуюся женщину с журналом.
Во мне рождался план.
И это было чертовски весело.
Потому что я вдруг понял, насколько он выходит складным. Логичным. Почти красивым.
Оставалось только придумать, как отвлечь её на минуту.
В голове сразу возник образ той дорогущей тетрадки, которую подарил мне папа.
Ну, как подарил — он её украл из магазина канцелярских товаров. Но, тем не менее, она была очень красивой. Я всё никак не решался начать в ней писать.
Я опустил голову и задумался:
«А чего такого? Зачем я вообще о ней подумал?»
И тут в голове, словно появился какой-то помощник, сразу всплыл план.
Нужно написать там какую-нибудь чушь. Что-нибудь вроде того, что учительница — маргиналка, и что я сижу и пишу всякую фигню, потому что мне плевать.
Я даже улыбнулся, представляя, как она вырывает у меня тетрадь из рук и читает это.
Зная Ирину Васильевну, она точно так сделает.
Она вообще очень любила вырывать листы — потом вклеивать их в свой журнал или показывать родителям как «доказательство».
Вчера я сам видел, как взрослые ругались с директором на первом этаже именно из-за этого. В их случае она порвала обложку и сделала тетрадь совсем непригодной.
Мой отец бы ей такого не спустил. Я знал это точно.
Другой вопрос — что я понимал: если он уже выпил, то может отреагировать слишком сильно.
Я посмотрел на часы.
12:32.
И подумал, что, скорее всего, он ещё не пил.
Пока Ирина Васильевна что-то бубнила себе под нос, покачивая ногой на ноге, я достал ручку и тетрадь.
Я начал писать, но мне было немного жалко тетрадку. И потом — писать откровенно плохие вещи я не хотел. Вдруг она не возьмёт и не сделает того, что я «планирую»?
Поэтому я написал так:
«Жила-была противная старуха. Она бесила всех вокруг. И звали ту старуху маргиналкой, потому что она умела только всех ругать».
Потом я добавил ещё описаний — чтобы было понятно, что я пишу именно про эту учительницу.
На самом деле я так увлёкся, что забыл, чего хотел. Исписав уже добрую половину листа, я вдруг засмеялся — над каким-то удачным сравнением.
И вот тогда она стала очень недовольна.
Как так?
Она тут старается меня испугать — а я смеюсь?
Очень ожидаемо она подошла ко мне.
— Сюда дай, — сказала Ирина Васильевна, протягивая морщинистую руку с красными когтями. — Ну, давай быстро.
— Не дам. Вы мне не учитель, а это личная вещь, — я прижал тетрадку к груди. Внутри всё стучало всё сильнее.
— Личная вещь у тебя дома. А здесь ты ученик, — сказала она и вырвала у меня тетрадку.
Она отошла на пару шагов и начала читать.
А у меня вдруг появилось ощущение, будто я упал в колодец.
Обратного пути не было.
Я изо всех сил пытался удержать улыбку, глядя, как краснеет её лицо.
— Ах ты ублюдок! — выкрикнула учительница.
Она резко замахнулась и ударила меня по лицу.
Я упал со стула и зацепился за скатерть — белую, на ощупь почти как пластмасса. Со стола упала и разбилась ваза — маленькая, с слишком большим букетом.
Я заплакал.
Потому что это было слишком неожиданно.
И потому что это было слишком больно.
Руки дрожали, когда я стоял на четвереньках и смотрел на коричневые полосы на полу.
Из носа текла кровь — не капала, а именно текла, ручьём.
Мне очень хотелось, чтобы папа пришёл поскорее.
И ещё — чтобы они не смогли скрыть вот это.
Я дотронулся ладонью до носа. Она сразу окрасилась в красный.
Ирина Васильевна молчала.
А я, пытаясь остановить кровь, только размазал её по лицу.
Я подумал, что она, скорее всего, попытается насильно смыть мне кровь. Поэтому я измазал рубашку, шею — вообще всё, до чего мог дотянуться.
Когда я попытался привстать, меня почему-то повело. Всё, чего я добился, — снова упал. Теперь уже прямо на попу.
Зато так я смог увидеть её лицо. И то, как она прикусывает нижнюю губу, читая.
Я вспоминал, что там написано, и понимал: я скажу, что писал сказку. Не про неё.
И никто не сможет доказать обратное.
Наверное, моя улыбка в тот момент, когда она посмотрела на меня, напугала её сильнее, чем мой вид. Потому что теперь я был тем, кто накажет её.
И я, почти смакуя каждый слог, произнёс:
— Вы даже не представляете, — кровь попала в рот, и я просто вытолкнул её языком, — что с вами сделает папа, как только узнает.
В учительскую зашла Нина Николаевна.
Это было неудивительно: у неё не было урока, а кабинет находился рядом с её классом.
Я посмотрел на неё — и внутри словно кто-то оборвал струну, на которой держалась вся моя логика. Все мысли. Вся собранность.
Я просто вскочил и обнял её.
И, срываясь на слёзы, закричал:
— Пожалуйста, не надо меня бить!
Почему именно так — не знаю. Это просто вырвалось.
В какой-то момент мне пришла в голову мысль, что я испачкал её платье своей кровью. Я отодвинулся и посмотрел Нине Николаевне в глаза.
И был прав.
В них был ужас.
Сочувствие.
Страх.
Боль.
Всё то, что я ожидал увидеть.
— Ир, — учительница прижимала меня к себе, — это уже всё. Бить детей — это уже всё. Я вызываю полицию.
— Да кого бить?! — Ирина Васильевна закричала дрожащим голосом, показывая на стол с разбитой вазой и сорванной скатертью. — Он просто упал!
Я посмотрел на Нину Николаевну и сразу понял — она ей не верит.
Видел это по взгляду. По тому, как она смотрит.
А потом меня поразило, насколько она сильная, когда спокойно сказала:
— Ты думаешь, они не посмотрят камеры?
У меня внутри всё почему-то оборвалось. Я поднял голову и увидел два тёмных шарика в разных углах потолка.
— Он меня спровоцировал! — Ирина трясла тетрадкой, сминая листы. — Ты посмотри, что этот ублюдок пишет про меня!
— Тёть Нин, я писал сказку. Как вы учили писать, — понятия не имею, как я вообще это связал, но получилось чертовски складно.
А ведь она правда учила меня писать. Советовала придумывать маленькие рассказы, сказки, даже просто короткие истории. Объясняла, какая у них должна быть структура.
Нина Николаевна, не выпуская меня из рук, наклонилась, подняла мой рюкзак и вложила его мне в ладони.
— Иди в мой кабинет, — сказала она.
В кабинете был серый свет — из окон, без ламп. Я сел за парту под портретом Антона Павловича.
В голове мысли звучали одна громче другой. Мне представлялось, как папа придёт, увидит кровь — и встанет на мою защиту. Как Ирину Васильевну накажут.
Я вдруг вспомнил Серёжку — мальчика на два года старше меня. Она его просто измучила: таскала за волосы, пинала, давала пощёчины.
И тогда внутри родился страх.
Потому что его никто не защищал. Никто из домашних за него не вставал.
Почему мне вообще показалось, что за меня кто-то встанет?
Я сидел тихо. Когда открылась дверь, внутри всё замерло.
Но это была тётя Нина.
Она дала мне влажную марлю, сказала приложить к носу и ждать.
Я сделал всё, как она сказала. Лёг на парту с марлей и смотрел, как за окном качаются берёзки.
Дверь в кабинет открылась, и я увидел папу.
Он подошёл к парте и приподнял рукой мою голову. Я сразу понял, что он невероятно зол. Настолько, что, пока он осматривал моё лицо, его самого заливала краснота, а выражение будто кричало: бегите все.
— Это кто по тебе прошёлся? — голос у него подрагивал.
Я почувствовал запах алкоголя.
— Тёть Ира, — я опустил голову.
Папа резко развернулся и так сильно ударил в дверь, что эхо прокатилось по всей школе — громче, чем звонок на перемену. Он вышел, хлопнув дверью, и направился к учительской.
Я не знаю почему, но мне вдруг стало стыдно. Будто виноват был я.
Хотя было понятно: обратного пути уже нет.
В класс зашла испуганная Нина Николаевна. Она быстро закрыла дверь. Руки, державшие ключи, заметно дрожали, но она всё-таки провернула замок.
В кабинете была маленькая вторая комната — только для учителя. Я никогда там не был, только видел: шкаф, диванчик и два цветка в белых горшках. Нина Николаевна зашла туда и закрыла дверь.
До меня доносился голос отца. Он ругался по-взрослому — тяжело, грубо и очень зло. Стуки смешивались с криками. Чувство вины росло, и у меня потекли слёзы.
Я вскочил и побежал к окнам. Сел под подоконником и зажал уши ладонями.
Наверное, от страха.
Даже так я всё равно слышал — просто глухо. Удары. Грохот.
Я смотрел на дверную ручку и пытался просто описать её себе.
Тусклое золото.
Местами облезшее.
Из-за этого по всей поверхности — неровности.
Я не знаю, сколько так просидел, но, когда, казалось бы, всё стихло, я увидел, как дёрнулась дверная ручка.
— Тёма, выходи, — отец стучал в дверь. Голос у него был уже спокойнее. — Слышишь?
Я уже поднялся, когда очень тихо из маленького кабинета вышла Нина Николаевна. Она приложила палец к губам и показала мне молчать. Потом махнула рукой — иди сюда.
Я так же тихо подошёл. Она взяла меня за руку, увела внутрь и усадила на диванчик. Потом вернулась и закрыла дверь на ключ.
— Малыш, — покачала она головой, — ну и папа у тебя, конечно…
Она прошла к столу. Там стояли стопки тетрадей и лежал телефон. Нина Николаевна села, взяла красную трубку, привязанную к аппарату скрученным спиралью проводом.
— Не знаю, — говорила она в трубку, — я сейчас закрылась в двадцать шестом. Полицию минут пять назад вызвала. А что, Григорич?
Григорьевич — это был пожилой охранник нашей школы.
Папа почему-то очень любил над ним издеваться. То и дело бил его по козырьку и называл «спецназовец детсада». Я не знал почему. Но мне всегда было обидно за дедушку. Я знал, какой он добрый и чуткий. Он любил детей и часто развлекал меня, когда я ждал окончания уроков физкультуры.
Просто от физкультуры я был освобождён.
Из-за какого-то там «компрессионного» перелома позвоночника.
Он случился пару лет назад, когда отец сильно ударил меня — за то, что я что-то испортил. Я уже даже не помнил что.
Зато вместо канатов и прыжков я сидел с этим самым дедушкой.
А он рассказывал мне много-много разных историй.
Кожу под носом стянуло. Запах железа бесил. И ещё всё чесалось.
Страх и это странное чувство неопределённости постепенно уступали тошноте и какой-то неустойчивости мира. Я не знаю, как это описать. Просто тогда, ещё у окна, когда я встал, мир будто слегка качнулся. А сейчас его уже мотало — как лодку на беспокойной воде.
Я помню, как провёл пальцем под носом. Полусухая корочка — такая, которую ужасно хочется содрать.
Я случайно задел край носа, и боль так резко стрельнула, что на мгновение всё уплыло.
Осталась только мутность в глазах.
Мне стало совсем нехорошо, и я лёг на диван, подвинувшись ближе к стенке. Помню, как мне вдруг показалось, будто она — мой щит.
Меня сильно трясли. У входа в маленький кабинет стоял очень миловидный полицейский, а рядом со мной — наша медсестра. Я никогда не помнил её имени и вообще старался от неё убегать. Особенно когда доходила очередь до всяких прививок. Эти шприцы — ужасно опасные штуки. Я их очень боюсь.
Она светила мне фонариком в глаза. Я поднял руку к уху — там почему-то сильно чесалось. Когда я залез туда пальцем, почувствовал, что влажно. Вынул палец и протянул перед собой.
Он был мокрый — в тёмно-красной, вязкой жиже.
«Наверное, это из носа кровь», — подумал я.
Но медсестра почему-то отреагировала совсем иначе. Она резко надавила мне на грудь.
— Нет, малыш. Лежи, пожалуйста. Не вставай, хорошо?
Я слышал, как она по телефону Нины Николаевны вызывала скорую. Говорила что-то про зрачки. Про кровь.
А мне хотелось просто закрыть глаза — от этого яркого, почти больного света.
И одновременно хотелось смотреть на полицейского.
На его оружие.
На чёрную палочку.
На жетон на груди.
На красные, выпуклые линии.
Дальше я не помню, как всё происходило.
Помню только вечер. И то, почему именно вечер: за окном больницы было уже очень темно. Но это была не ночь — по коридору всё ещё ходило много людей, а на кровати напротив мама и папа сидели со своим ребёнком и о чём-то тихо говорили.
Тогда я и увидел её.
Ту, которая появляется только тогда, когда я в больнице.
Ту, которую обычно называют мамой.
И которую я тоже хотел бы так назвать.
Но больше всего я запомнил другое чувство — всепоглощающую усталость. Не в теле. А в этой странной игре: называть мамой ту, которая тебя бросила.
Каждое слово, которое я даже просто думал произнести, отзывалось тошнотой — от лживости.
Она уже пять лет как убежала, оставив меня с отцом. Я видел её только в больнице. И это давно перестало быть смешным — семнадцать раз за пять лет. Именно столько раз я оказывался в этой детской больнице.
Папа говорил, что здесь работает её двоюродная сестра — та, которая сообщает ей, если меня привезли. Я её никогда не знал лично.
Иногда, сидя один в день своего рождения, я мечтал оказаться в больнице.
Просто чтобы обнять маму. Или поцеловать её.
Так было и в десятый раз.
Совсем недавно.
Она что-то говорила, трогала моё лицо, волосы. Её улыбка — ту, которую я теперь ненавидел так отчётливо, что внутри поднималось какое-то первобытное чувство тревоги.
— Я тебе ещё маечек купила, — сказала она и поставила пакет в углубление прикроватной тумбочки. — Наденешь, когда вставать разрешат, да?
В проходе между белых дверей я увидел Елену Витальевну.
Внутри вдруг возникло ощущение, похожее на то, что бывает перед Новым годом или в день рождения. Я даже попытался приподняться на локтях, но мама мягко прижала меня обратно.
— Здравствуйте, — Елена Витальевна посмотрела на маму с непониманием. — А вы у нас кто?
Мама как-то странно заёрзала, будто подбирая правильную позу, и ответила:
— Мама Артёма. А вы?
— Ух ты, как, мама, значит! — Елена Витальевна подошла ко мне, улыбнулась и погладила по волосам.
У меня внутри будто фейерверки заиграли. Я обожал эту женщину из опеки. Она была очень строгой с моим папой — и он её сильно боялся. Когда тётя Лена говорила ему меня не бить, он недели две буквально пылинки с меня сдувал. Даже когда был пьян.
— А почему мы про вас ничего не знаем? — тётя Лена села на край кровати. — Почему вы не живёте с ребёнком?
Они долго говорили. Сейчас я уже плохо помню — о чём именно. Наверное, потому что ничего толком не понимал: они разговаривали какими-то загадками.
Зато я запомнил другое.
Мой отец — арестован.
Опека — забирает меня.
И ещё.
— Тогда собирайте документы, — сказала Елена Витальевна спокойно, уверенно, несмотря на невероятно мягкий и тёплый голос. — Чтобы Тёмочку к вам отдать. Хорошо?
Я понял, что это значит.
И ещё я понял, что ничто на свете больше не заставит меня почувствовать любовь к матери.
Я сильно сжал руку тёти Лены — не специально, а просто от одной мысли, что меня отдадут маме.
— Чего такое, солнышко? — спросила она.
— Можно на ушко? — мне было стыдно говорить это так, чтобы мама услышала.
Она наклонилась, и я сказал:
— Она же бросила меня. Я не люблю её.
Елена Витальевна выпрямилась. Её лицо уже не было таким добрым. Не знаю — может, она разозлилась. А может, просто всё поняла.
В любом случае она встала и попросила маму выйти с ней.
После этого я долго не видел маму.
Больше года.
Послесловие
Я не виню никого из участников этой истории.
И не пытаюсь никого выгородить.
В этом тексте нет попытки разобраться, кто был прав, а кто виноват.
Нет желания оправдать себя или других.
И нет смысла в сожалениях — они ничего не меняют.
Это просто то, как я запомнил один конкретный день.
Последний день, когда я ещё был «семейным» ребёнком.
Память не выстраивает причин и следствий.
Она сохраняет ощущения, слова, взгляды, запахи, страхи и надежды — такими, какими они были.
Я хотел жить как все.
Иметь возможность читать и писать.
Иметь право говорить — и быть услышанным.
Больше в этом тексте ничего нет.